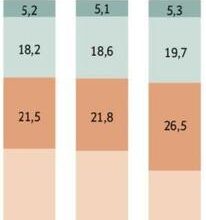Как технологии изменили индустрию поиска сокровищ
В приключенческих романах прошлого сокровища искали обычно по пиратским картам с крестиком. Стивенсону и Буссенару не приходило в голову, что можно отыскать и поднять испанский галеон с золотом, лежащий на дне океана на глубине в несколько километров. С другой стороны, доктор Ливси и сквайр Трелони не сомневались, что награбленные пиратом Флинтом ценности можно просто забрать себе, уплатив в казну небольшой налог. Большим он быть не мог, потому что иначе никто и не подумал бы ставить государство в известность. Сегодня всё наоборот. Умельцы поднимают с океанских глубин до полумиллиарда долларов, но практически невозможно сделать это в тишине. А коммерческую археологию лихорадит от полностью нелегального статуса до попыток выпускать акции и привлекать инвестиции, словно это обычный стартап.
Найди и сохрани
12 сентября 1857 г. пароход «Центральная Америка», следовавший из Сан-Франциско в Нью-Йорк, попал в шторм и затонул у восточного побережья США вместе с тоннами золота, добытого во время калифорнийской золотой лихорадки. На борту находились 578 пассажиров и членов экипажа, 425 из которых погибли. Но потрясённую Америку интересовал прежде всего груз. Никто не знает, сколько золотишка было в багаже частных лиц, но коммерческий груз оценивался в 14 тонн. А всего, может, и больше двадцати.
Уолл-стрит отреагировала биржевой паникой, которая стала началом первого глобального экономического кризиса 1857–1858 годов. Но найти пароход в океанских водах с технологиями XIX века было обречённым предприятием, поскольку даже подводные лодки существовали только в фантазиях Жюля Верна. 130 лет спустя мировая гидрология пережила явление Жака Ива Кусто, а субмарины стали атомными и безупречными. И вот 11 сентября 1988 г. дистанционно управляемый аппарат «Немо» погрузился на два с лишним километра в воды Атлантического океана и обнаружил «золотой пароход». А глава команды инженеров «Немо» Томми Томпсон проснулся человеком, нашедшим главный затонувший клад в американской истории.
Герой вовсе не был каким-нибудь авантюристом-кладоискателем, но на правительство работать не желал, а в частном секторе не было достойной его амбиций цели. На основе математической модели Томпсон расчертил океан к юго-востоку от Южной Каролины на сектора по вероятности наличия там останков судна. Потом привлёк 161 инвестора, которые собрали 22 млн долларов. На эти деньги было нанято поисковое судно, построен аппарат для глубоководных исследований, сформирована команда и научное ядро экспедиции – всего 13 человек. Через два года усилий они нашли огромное гребное колесо парохода, а следом – тонны золота, разбросанные на месте крушения площадью с футбольное поле. Урожай составил 577 золотых слитков, свыше 10, 5 тыс. монет и несколько десятков килограммов самородков. Всё это тянуло на сотни миллионов долларов, экспедиция в разы себя окупила.
Разумеется, Томпсон заранее прокачал юридические последствия: его компания через суд получила права на всё, что найдёт под водой. Но не успели поднять сокровища на сушу, как свою долю потребовали более сотни истцов, среди которых было 39 страховых компаний, застраховавших когда-то груз и багаж пассажиров Central America. Они ведь неслабо раскошелились в результате катастрофы и предъявили вполне логичные права на часть груза.
Для Томпсона с коллегами такой поворот почему-то стал неожиданностью. Они остановили работы по подъёму золота на поверхность и целых 10 лет не вылезали из судов. В 1998 г. им таки присудили 92% стоимости найденного. Уже к 2000-му они продали часть золота, заработав 50 млн долларов, но перессорились между собой, с инвесторами и создателями аппаратуры (даже разработчики сонара для «Немо» хотели долю). Для Томпсона, который не хотел работать на правительство из-за непереносимости волокиты, всё это было чересчур. Он вдруг исчез из поля зрения заинтересованных лиц, меняя мобильники и удостоверения личности. В какой-то момент выдающегося кладоискателя даже объявили в розыск.
Его нашли и доставили в суд только к 2015 году. Истцы уверяли, что ударившийся в бега Томпсон, словно пират, набил свои сундуки золотыми монетами. Сам он три года путался в показаниях, признав в итоге, что действительно вывез небольшую часть монет в Белиз, положил их в банк, но теперь не имеет к ним доступа из-за ордера американских властей. В итоге к 2018 г. суд обязал кладоискателя выплатить более 19 млн баксов, лишив его прав на долю в сокровищах «золотого парохода». И это, пояснил судья, очень мягкий вердикт, поскольку суд не усмотрел в действиях Томпсона злого умысла.
Для других амбициозных искателей приключений решение прозвучало предостережением: даже если ты герой-новатор и пытался всё сделать по закону, получи 30 лет геморроя вместо доли в добыче и заслуженной дольче виты. Да ещё и останешься должен пару сундуков с золотом.
Большой куш
По оценкам ЮНЕСКО, на дне Мирового океана покоится около трёх миллионов затонувших кораблей. Правда, кладоискателей могут заинтересовать лишь те 3 тыс., что перевозили ценности. Не менее пятой части из них покоятся на глубине свыше 200 м, где вода не содержит микроорганизмов, разрушающих деревянный корпус судна. Но не обязательно перепахивать ради этого бескрайний Атлантический океан – самым большим кладбищем затонувших кораблей с сокровищами считается западная часть не самого глубокого Средиземного моря, где только в XVI–XIX веках пошли ко дну больше 800 судов. А каждое третье могло перевозить золото и серебро. Если же сложить все подводные золотые клады, то их гипотетический суммарный вес превысит вес всего золота, добытого на планете в 2024 году.
В общем, есть от чего потерять сон. А там, где можно сорвать большой куш, предприимчивые частники обычно посрамляют неповоротливое государство. По данным Британского музея, 99% всех археологических находок совершается любителями. А ООН полагает, что чёрная археология входит в десятку самых прибыльных занятий бизнесом. Правда, как это часто бывает с ООН, не вполне понятно, с чего они это взяли.
Днём рождения морской археологии считается 1953 г., когда американец Эдвин Линк приступил к поискам пиратской столицы Порт-Ройал на Ямайке, оказавшейся под водой в результате землетрясения 1692 года. Линк был не кладоискателем, а учёным, его больше денег интересовал быт исчезнувшего города. Но пару сундуков с серебром он нашёл почти сразу, а известие о находке мигом облетело Ямайку. Пикейные жилеты преувеличили в тысячи раз стоимость найденных ценностей, а полиции пришлось успокаивать местных искателей приключений, рванувших к новому Клондайку. На свою беду Линк в разгар шумихи обнаружил ещё несколько тысяч испанских серебряных монет в хорошей сохранности, золотые кольца и запонки, а полиция стала нужна уже для защиты сотрудников экспедиции: местная мафия угрожала им смертью, если учёные не поделятся находками. Политическая оппозиция обвинила правящую партию, что она сговорилась с археологами и украла все сокровища, а парламент поставил на обсуждение вопрос о полном прекращении работ. В общем, новая реальность, с которой придётся иметь дело как обычным археологам, так и «чёрным», обозначилась с самого начала.
Другой стороной реальности стал семимильный технический прогресс. Томми Томпсон не нашёл бы в 1988 г. «золотой пароход» без подводного аппарата «Немо». А такой техники не могло быть создано, например, десятью годами раньше.
А как основатель американской компании Odyssey Marine Exploration Грег Стемм в 2003 г. нашёл колёсный пароход «Республика», затонувший в 1865 г. в районе Саванны с несколькими десятками тысяч золотых монет? При помощи гидролокаторов, роботов и магнитометрических приборов, которые и не снились Томпсону четвертью века ранее. Главным героем стал 7-тонный робот «Зевс», который мог работать на глубине до 2, 5 км и стоил 4 млн долларов. Зато общая стоимость 51 тыс. найденных монет превысила 75 млн баксов, на которые, как водится, тут же сбежалась куча претендентов.
В общем, дела супернаходчивого Стемма идут с переменным успехом. Например, в 2014 г. его Odyssey «привёз» 26 млн долларов убытка. И предприниматель заявил, что намерен сосредоточиться на подводной добыче полезных ископаемых – основном своём бизнесе. Это при том, что в 2007 г. Грег Стемм нашёл «Мерседес».
7 мая 2007 г. его компания объявила о подъёме со дна Атлантического океана близ Ла-Манша около 600 тыс. серебряных и золотых монет весом 17 тонн и стоимостью около 500 млн долларов. О самом судне Стемм юлил: дескать, от него мало что осталось, но похоже на английский фрегат «Королевский купец», затонувший в XVII веке. Монеты скоренько переправили в британский Гибралтар, а оттуда вывезли на самолётах в Америку.
Тут нужно пояснить, что в 2001 г. 55 стран подписали Конвенцию ЮНЕСКО по защите подводного культурного достояния. Она охраняет затонувшие корабли и запрещает их поиски и подъём грузов в коммерческих целях. Но Испания и Италия ратифицировали конвенцию, а Великобритания, США и Россия – нет. Получается, на сокровища с британского судна коммерческий археолог может претендовать, а с испанского – дулю. Конечно, есть нюансы: например, в конвенции сказано, что артефакты можно поднимать, если им угрожает опасность на дне, – а под это что угодно можно подвести.
Но Испания с самого начала не поверила Стемму: зачем, мол, британцы везли столько золота из Лондона в Гибралтар. И оказалась права: на самом деле везунчик нашёл испанский фрегат «Наша сеньора Мерседес», перевозивший драгметаллы из Лимы в Кадис. А раз корабль был военным, его груз должен принадлежать Испании вне зависимости от места нахождения. И американский суд сдал дело Мадриду. Хотя де-юре не всё было так однозначно: «Мерседес» совершала коммерческий рейс, более 70% монет в её трюмах были собственностью купцов. А «суверенитет» распространяется на сам корабль, но не на груз, если он не принадлежал властям. Однако сокровища «Мерседес» были возвращены Испании. Хотя било себя в грудь и правительство Перу: дескать, проклятые конкистадоры чеканили монету из золота и серебра, которое перуанский народ добывал в своих недрах.
Впрочем, если бы легальный поиск сокровищ был совсем невозможен, Стемм и другие ценители подводного мира давно сложили бы зубы на полку. Но британские власти позволяют им поднимать корабли, ходившие под флагом владычицы морей. Это дальновидно: ведь коммерческие археологи двигают развитие технологий и платят налоги. Их деятельность даёт новые находки, которые пополняют коллекции музеев и двигают наши представления о прошлом. Именно этот процесс и называется прогрессом. А если вытравить кладоискателей в серую зону, они будут орудовать нелегально, и тогда все будут в минусе: казна, музеи, историки, легальный рынок антиквариата. Вот, к примеру, в мае 2000 г. франко-египетская экспедиция обнаружила на дне при впадении западного рукава Нила в Средиземное море античные города Ираклий и Каноб. Мы бы о них до сих пор ничего не знали, если бы кто-то не мечтал одним махом разбогатеть, найдя на дне золото.
Хотя добыча ценностей дело кропотливое, про «одним махом» – это иллюзия. Пять лет английские поисковые фирмы и советское АО «Госстрах» занимались подъёмом 5, 5 т золотых слитков (оплата за ленд-лиз) с британского крейсера «Эдинбург», потопленного в 1942 г. в Баренцевом море. Столько же лет искатели изучали документы об английском фрегате «Джоанна», затонувшем в 1682 г. в нескольких милях от мыса Игольный (Южная Африка), прежде чем поднять с него 23 слитка серебра, 2 тыс. серебряных монет, изделия из драгоценных металлов и 38 орудий.
Тем не менее власти многих стран относятся к лежащим в их водах судам как собака на сене. Например, участок моря между Тулоном и Сен-Тропе огорожен противолодочными сетями, сплетёнными из массивных стальных колец. Но нелегальные старатели преодолевают сети при помощи взрывчатки. Недавно близ хорватского городка Цавтат власти пытались защитить от «чёрных» археологов ценный груз древнегреческого торгового судна при помощи огромной клетки из толстой арматуры с замком на двери.
Но сокровища таятся ведь не только в солёных водах. Земля тоже полна всяких припрятанных тайников, а на вооружение поисковиков поступили недорогие металлоискатели, «улавливающие» золото и серебро на глубине в полсотни метров. И от мудрости властей зависит, захочет ли нашедший с ними делиться.
Продукт опасности
Весной 2025 г. в Великом Новгороде на Воздвиженском раскопе найден богатый клад Х века. Он имеет не только материальную, культурную и историческую ценность. Он как будто снял проклятие: про находки кладов мы слышим всё реже, потому что по всему миру их поиск превращается в прибыльный теневой промысел, о котором помалкивают участники.
Воздвиженский клад нашли в момент раскопок в пятиметровом слое при строительстве коттеджа. Клад потянул на 3 кг серебра: около 1800 арабских и византийских монет и более 80 украшений. Зарыли его не раньше второй половины 970-х годов: самая «старшая» монетка – с профилем императора Иоанна Цимисхия, который умер в 976 году. Это время правления в Новгороде великого князя Владимира Святославича, будущего крестителя Руси. Тогда больше сотни коров можно было купить на эти деньги.
Воздвиженский клад будет интересен историкам, спорящим о роли «норманнской теории» в объяснении истоков Древнерусского государства. В кладе бросается в глаза сочетание типично славянских и скандинавских вещей, даже в составе одного убора. Со славянскими лунницами соседствуют варяжские подвески. Наконечный крест с тремя шариками – скандинавского типа. И он говорит о существовании в Новгороде христиан за несколько лет до того, как князь Владимир начал крестить народ «огнём и мечом».
Но те, кого интересует в первую очередь материальная ценность Воздвиженского клада, говорят про 60–100 млн рублей. Официальных комментариев нет, как и особой необходимости в них: часть находок выставят в залах Новгородского музея-заповедника, а о продаже на рынке нет и речи.
Вполне возможно, Россия – мировой лидер по числу спрятанных кладов. Ведь идея закопать свои активы в землю вместо их инвестирования – плохая идея. Однако клад – это всегда следствие опасности для его владельца. И в нашей истории полно «беспокойных» периодов.
С приходом советской власти обеспеченные граждане поголовно прятали свои ценности от распоясавшихся мародёров. А многие так и не смогли к ним впоследствии вернуться. Как следствие, 6 марта 1985 г. в Петербурге на чердаке бывшего доходного дома на 2-й Красноармейской улице во время ремонта была обнаружена потайная комната площадью четыре квадратных метра, а в ней – более тысячи старинных предметов. Судя по всему, клад принадлежал чиновнику по особо важным делам МВД Владимиру Лабзину, сгинувшему во время революционных событий. А 26 октября 1985 г. в Гостином Дворе нашли 114, 5 кг золота в 8 слитках. До революции здесь помещался торговый дом ювелира Ивана Мороза.
Ещё в 1660 г. немецкий путешественник Августин Мейерберг писал о России: «Деревенские жители и сами дворяне, живущие в деревнях и поместьях, обыкновенно закапывают свои нажитые деньги в лесах и полях по обычаю, заимствованному у предков». В Эрмитаже после войны подсчитали, что из 400 крупных кладов монет, найденных в европейской части Советского Союза, 8 были спрятаны в XIII-XIV веках, 24 – в удельный период, 56 – при Иване Грозном, 131 – в Смутное время, 65 – при Петре I, 19 – в XVII — начале XX века, 18 – в Первую и Вторую мировые войны. Одновременно это и перечень кризисных периодов истории.
Получается, за недолгую опричнину прятали добро в три раза чаще, чем за весь имперский период, куда более спокойный в правовом отношении. А в Смутное время, когда патриотичный народ якобы мечтал отдать часть имущества на ополчение против поляков, закопали втрое больше, чем при Грозном. Последние закладки относятся к 1940-м годам – оружие и всевозможная утварь иностранного производства. Хотя закон тогда запрещал хранить только предметы с символикой Третьего рейха, народ на всякий случай страховался и от всего несоветского.
А раз есть клады – будут и кладоискатели. Ещё в XVII веке «бугровщиками» называли крестьян, грабивших курганы железного века. Иван Грозный сам был большим знатоком кладов: постоянно перепрятывал собственные ценности в подвалах Кремля, а также несколько лет искал (и нашёл!) сокровища в соборе Святой Софии в Великом Новгороде. При нём случаи обнаружения кладов фиксировал разрядный приказ: как ни странно, людей, затихаривших находки, наказывали редко и даже оставляли им часть найденного. При Петре I в интересах науки в России появился закон: явившись к приставу с кладом, старатель получал аж 100% стоимости металла и надбавку за художественную ценность, если речь шла о старинных вещах.
А как ещё убедить народ сотрудничать с властями, если у него при одной мысли о кладе сносит голову? В русских деревнях нередко случалась эпидемия: обнаружил мужик в огороде два пятака, и тут же вся деревня, бросив работу, перепахивает общинные земли. В 1922-м на Коломенской улице в Питере мальчик нашёл в развалинах дома жестяную коробку с золотым червонцем и серебряной мелочью. После этого жители всего района вскрывали в своих квартирах полы и ломали стены. Психологи отмечают у многих кладоискателей сильнейшую фиксацию на предмете поиска. А к каким последствиям для личности приводит энергичный поиск сокровищ, русская литература блестяще показала на примере Ипполита Матвеевича Воробьянинова.
При этом Ильф и Петров ни слова не говорят, как Остап с Кисой собирались легализовать сокровища мадам Петуховой. Кажется, они собирались просто на них красиво жить. И совершенно напрасно: даже такой изобретательный пройдоха, как Остап Бендер, став миллионером, не придумал ничего умнее, как накупить на них золота и ломануться через границу. И Томми Томпсон, и Грег Стемм подтвердили бы ему, что не так сложно найти сокровища, как спокойно положить их на свой банковский счёт.
Не по Сеньке шапка
Каждый зритель фильма «Бриллиантовая рука» знает, что в СССР нашедший клад получал 25% его стоимости. Тем не менее даже тогда крупные находки фиксировались всё реже и реже. А типичный российский клад – полведра медных монет, закопанных на огороде или опушке леса. Цена им – 100–200 долларов. Согласно Гражданскому кодексу, даже такой клад должен быть поделён пополам между тем, кто его отыскал, и собственником земли.
Причём оценка стоимости клада и выплата компенсации могут занять годы. А если кладоискатель осуществлял раскопки или поиск ценностей без согласия владельца, он теряет право на свою половину клада. Поскольку владелец земли у нас чаще всего государство или муниципалитет, попробуй получи у них это разрешение. Тем более в 2013 г. в законодательство внесены мудрые поправки: теперь кладоискатель имеет право извлечь из земли монету 1917 г., а за монету 1916 г., найденную металлоискателем, – срок до 6 лет. Де-юре сесть может огородник, ковырнувший старинную кубышку на своих шести сотках.
Попробуем сравнить две ситуации. В 2016 г. в районе Пардубице чешский поисковик с металлоискателем нашёл и передал в музей 400 монет IX-X веков. Власти выплатили ему в качестве вознаграждения 6 млн рублей по тогдашнему курсу. Примерно в то же время рыбак Андрей Черемин под Салехардом копал червей и нашёл клад из парфянских серебряных украшений, бронзовых котлов и даже зеркал, датированных I веком до нашей эры. Черемин тоже решил передать их в музей. И его едва не посадили. Если бы у него нашли металлоискатель, то сушить бы счастливцу сухари, а так отделался малой кровью.
Наш закон запрещает любые работы по извлечению археологических предметов из земли. Даже если вы нашли золото Колчака в своём огороде, надо оставить находку как есть и сообщить властям. А поиски кладов, повлёкшие повреждение или уничтожение культурного слоя, влекут уголовное наказание до двух лет лишения свободы. А за те же действия с применением металлоискателя можно сесть на 6 лет.
Депутатам осталось только возродить старинный обычай пытать нашедшего клад на дыбе – не утаил ли он часть находки. Неудивительно, что в новостных архивах невозможно отыскать весточку, чтобы россиянин с металлоискателем явился в органы власти с кубышкой золотых монет: дескать, нашёл – и сразу к вам. Хотя в антикварных магазинах выставлено множество монет и старинной посуды, якобы полученных гражданами в наследство от прабабушки. А в Интернете можно купить металлоискатели более чем сотни наименований.
Поделиться
Поделиться