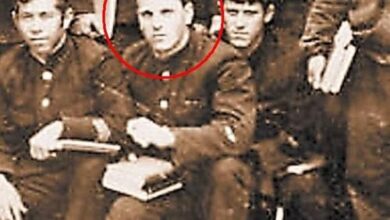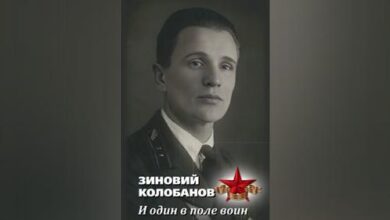Кто и почему в СССР проливал «Крокодиловы» слезы?
В советское время не было принято широко информировать население о том, что в стране победившего социализма все-таки «кто-то кое-где порой честно жить не хочет».
Медийный тормоз (не в пример нынешним интернетным водопадам грязи и пошлости) был идеологически обоснован: страна, хоть и спотыкаясь, пробивала путь в мифический коммунизм, так зачем, дескать, отвлекать трудящихся от всеобщего созидания какими-то нетипичными бытовыми мелочами?
Лукавость ситуации была в том, что т.н. «мелочи» были вовсе даже не случайными явлениями, а весьма распространенными, о чем в главном надзорном ведомстве страны — ЦК КПСС отменно знали, а потому пребывали в постоянном тревожном напряжении: как одно нейтрализовать другим?
«Из зала — сюда!»
Идеальных государств не бывает в принципе, в каждом хватает своих национальных нехороших излишеств, с которыми власти где более успешно, где — менее, но стараются как-то бороться. В Советском Союзе помимо открыто репрессивных механизмов («именем революции!») и коварно-заботливых («батенька, да вы переутомились, мы вас подлечим в спецклинике»), были, пожалуй, самые действенные: информационные! Знаменитые «Окна сатиры РОСТА», стенды «Не проходите мимо», отделы «сатиры и юмора» во многих газетах, даже обычные школьные стенгазеты «За ушко — да на солнышко!» должны были постоянно напоминать гражданам самой читающей страны о том, что вся их деятельность — под общественным контролем! Особенно та, которая идет вразрез с нормами социалистической морали и, уж конечно, — со статьями УК! Надо отметить, что это было вполне действенное советское изобретение: боялись, ох как боялись нерадивые чиновники попасть со своими проделками в СМИ!
Главным медийным калибром в этом информационном залпе был назначен суперпопулярный тогда сатирический журнал «Крокодил» (где автор впервые и вступил на зыбкое поле отечественной журналистики). Основной задачей издания (а выходил журнал аж с 1922 года) была, во-первых, яркая нетерпимость ко всему тому, что мешало простым советским людям жить действительно удобно и комфортно, а во-вторых, дать им уверенность в том, что их покой и человеческое достоинство постоянно находятся под надежной защитой печатного слова (непечатными словами общество умело защищаться и без помощи прессы, о чем бесхитростно вещали все советские заборы — авт.).
Особенно нетерпим «Крокодил» был к тем, кто пытался прикрыть свои делишки святыми сафьяновыми корочками партийных билетов. Собственно, именно такая задача перед редакцией и была поставлена тогдашним основным идеологом ЦК КПСС Михаилом Сусловым, а регулярно озвучивал ее перед главным редактором Евгением Дубровиным наш основной куратор — зав. отделом агитации и пропаганды ЦК Владимир Севрук, который, надо заметить, к авторам «Крокодила» был весьма лоялен и журнал читал не только по служебной обязанности.
Впрочем, мы, пишущие фельетоны и рисующие карикатуры, никогда особо не обольщались собственной, якобы, всесильностью: свободно критиковать и высмеивать тех, кто «кое-где порой…» нам было дозволено весьма дозировано: не выше 2-го секретаря обкома или крайкома партии. «Первые» попадали на страницы издания по персональным командам уже из самого ЦИК! Брали, очевидно, не по чину… Челядь пожиже, кто пренебрег святыми партийными заветами, в ЦК разрешали хлестать наотмашь. Конечно, с соблюдением действующего законодательства и при наличии на руках бесспорных доказательств их «шалостей». А уж этого у нас всегда было достаточно: в редакцию шли тысячи писем со всей страны!
Для более убедительного подтверждения такого унылого развития событий на кумачевой обложке редакционного удостоверения было жирно оттиснуто: «журнал политической сатиры ЦК КПСС». На многих советских чиновников эта надпись действовала куда более устрашающе, чем буквы «ОБХСС» или даже «КГБ»! Бывали случаи, когда некоторые, увидев удостоверение, даже теряли сознание. Видимо, сами осознавали, насколько полно до этой встречи они потеряли собственную совесть…
Таковая практика была стране необходима: по публикациям в «Крокодиле» немедленно назначались безжалостные проверки, возбуждались уголовные дела, звучали громкие приговоры. Попавшиеся фигуранты обязательно изгонялись из партии, что в те годы было равносильно почти их физической кончине. Самое главное, что достигалась основная негласная цель самого «Крокодила»: защитить от бюрократического бесправия простого советского человека, о чем сегодня люди перестали даже мечтать.
Читатели это понимали, верили и журнал наш обожали, что подтверждал и фантастический для нынешних СМИ тираж: более 6,5 млн. экземпляров! Да, тогда главная партия страны умела не только оберегать свои ряды от случайных попутчиков, но и чистить их безжалостно. Правда, бывали и трагикомичные нюансы.
«Ба! Знакомые все лица!»
В отделе писем, где меня приютили в качестве литсотрудника, тщательно читали всю поступающую корреспонденцию, чтобы не пропустить какую-нибудь чрезвычайно важную информацию о действиях зарвавшихся чиновников. В коридоре время от времени собирались «разъездные» спецкоры, мечтавшие за умеренную взятку — «с меня стакан!», получить у нас самую душещипательную депешу, чтобы сразу рвануть в командировку за очередным фельетоном.
Письма трудящихся из разных областей, но как под копирку сочились одинаковыми, по сути, жалобами, и мы с редактором отдела начали выдавать их охочим до сенсаций коллегам поштучно, наделяя шепотом каждое письмо краткими персональными аннотациями: «редкая тема… лично тебе… ты про обещание только не забудь!» Бартер процветал, и все были довольны: в журнале неизбежно появлялся очередной громкий фельетон, нерадивый чиновник слетал с должности, автор получал солидный гонорар, ну а мы… Мы тоже получали обещанное. Но …
Однажды пришло письмо из Харькова. Открыл. Читаю:
«Дорогая редакция! Пишет вам ветеран войны и труда. Во время войны был контужен, потерял зрение, долго, но безуспешно лечился в разных клиниках, но … все было напрасно. Я уж было смирился со своей участью, как вдруг главврач больницы № (следует адрес и ФИО главврача) предложил мне попробовать пройти курс лечения еще раз. Я, конечно, согласился. Терять-то было нечего!
После операции с меня в палате наконец сняли повязку, и я, дорогие товарищи, впервые за долгие годы с восторгом понял, что я вижу!…»
«Странно, — подумал я: чего это он в «Крокодил» вздумал писать? Такой восторг надо было адресовать в «Правду», «Известия» или хотя бы — в «Медицинскую газету». Врача бы наградили или поощрили премией… Переворачиваю страницу, читаю дальше:
«…И что же я вижу, дорогие товарищи журналисты? В палатах — грязь, на подоконниках пыль, простыни рваные и застиранные…»
Далее шла длинная и обстоятельная жалоба на того самого главврача, который и вернул страждущему возможность снова взглянуть на мир во все глаза! Тот и взглянул…
Письмо зачитали на редколлегии. Хохот стоял оглушительный. Потом все грустно замолчали и услышали унылый вердикт главного редактора: письмо направить в Харьковский горком партии для проверки. Такие были жесткие партийные правила. Делать было нечего: скрепя сердце, с официальной редакционной припиской «сообщить о результатах» направили.
Вскоре пришел бодрый официальный ответ: «Спасибо за сигнал! Факты подтвердились. Пыль протерли, белье заменили. Главного врача сняли с должности. Проведена беседа о недопущении впредь» и т.д.
На ум пришла народная поговорка: «В роду дураков старшего нет». А главврача стало, конечно, жалко, но помочь ему мы уже не могли. Более того, ответ был опубликован в обязательной рубрике «Крокодил помог». Такие были правила, увы…
«А поговорить?»
«Крокодил» публиковал различные курьезы, выловленные бдительными читателями в официальной советской прессе. К чистоте слов, как и разумности мысли коллег в журнале относились с особым трепетом: на кону ведь стоял авторитет всего печатного советского цеха!
Как-то редактору международного отдела «Крокодила» Марку Виленскому попался в руки номер очень популярного в СССР автомобильного журнала. Особенный интерес в нем вызвала статья его главного редактора о своей недавней служебной поездке во Францию, где, как он выяснил, на улицах очень много комфортабельных автомобилей.
Увиденное автоизобилие так впечатлило редактора, что он тут же рассказал огромной читательской аудитории своего издания о том, что своими глазами видел, а руками даже щупал французские автомобили «Ренаульт» (т.е. «Рено») и «Пеугеот» (т.е. «Пежо»).
По каким уж причинам бюро проверки текстов не вмешалось в эту абракадабру (автор по-русски перечислил именно те буквы, что старательно рассмотрел во французских названиях), осталось неясным. Может, это была чья-то личная месть за обещанный, но не предоставленный отгул?
В общем, спорный текст вместе с самим журналом «благополучно» разлетелся среди советских автомобилистов.
Виленский в те дни испытывал вполне объяснимые личные морально-номенклатурные трудности: кто-то из близких родственников подал документы на выезд из СССР в Израиль. По этой причине Марка Эзровича периодически неучтиво вызывали в различные тревожные организации: от райкома партии до … ну сами понимаете — куда, где требовали доказательств уже его личной и безоговорочной лояльности делу партии.
Слезные заверения редактора международного отдела угрюмо выслушивались, но все же нуждались в более ощутимых подтверждениях. И тут — этот спасительный «автомобильный» текст!
Вскоре на стол главного редактора «Крокодила» лег фельетон, написанный лично Виленским. Смелый заголовок и отсутствие псевдонима свидетельствовали о том, что автор текста не только по должности предан родине, но и с таковой патриотической зависимостью был и рожден: «Он еще не был в «Унитед Статес»!»
Далее взявший творческий разгон Виленский предположил, что если б коллега побывал в «Унитед Статес», то на их «стриитах» легко рассмотрел и потрогал бы «карсы»: «Схевролет» (т.е. «Шевроле»), «Схруслер» (т.е. «Крейслер»), «Додге» (т.е. «Додж») и «Плимоутх» (т.е. «Плимут») и т.д.
Заметка была опубликована. Не учивший в школе иностранные языки редактор автомобильного журнала был вызван в ЦК, откуда вернулся уже на пенсию. Виленский гордо ходил по «Крокодилу», ожидая поощрительного звонка из …, ну сами знаете — откуда. Дождался. Но вместо ободряющего «благодарим за службу!» услышал совсем иные чеканные выражения: ведь его родственник, пока Марк Эзрович писал статью, все-таки родину успел покинуть.
«Не грусти, Марк … — участливо заметил ему один из лучших фельетонистов «Крокодила» Александр Моралевич, — хоть и без помощи США, но ты смог, наконец, тоже написать что-то смешное.» Виленский в эту горькую минуту, скорее всего, дерзко и аполитично завидовал своему сбежавшему родственнику.
«Улыбки разных широт»
Вскоре, однако, пришло время грустить и самому Моралевичу. В те годы между сатирическими журналами соцстран существовал т.н. «творческий обмен делегациями». По сути, это была поощрительная халявная поездка на несколько дней за границу. Высшим блаженством в этом туризме за госсчет считались вояжи в условно-социалистическую Югославию или Венгрию. Но чтобы получить желанные визы этих стран, претендент был обязан пройти испытательную поездку в страны, где в те времена под социалистическими лозунгами активно продолжали развиваться вкрапления, похожие еще на меловой период. Например, в Монголию.
Именно туда и было предложено отправиться Моралевичу. Тот, уставший от разоблачительных фельетонов о среднеазиатских советских баях, конечно, обрадовался. На редакционных узких посиделках он любил рассказывать, например, о преимуществах национальной монгольской водки «архи», которую там готовят из кобыльего молока и которой тамошние элиты отмечают открытия и закрытия всех важных государственных форумов. Впрочем, как уверял Александр Юрьевич, напиток был популярен не только среди элит, но и среди простого монгольского люда. По всему чувствовалось, что наш товарищ к поездке готовится основательно и во многом исходя из личных ощущений.
Заключительным и самым главным этапом в этом политическом марафоне была т.н. «комиссия старых большевиков» при райкоме КПСС, которая давала свою решительную оценку: «достоин или не достоин» кандидат перешагнуть святую госграницу СССР. Сегодня такие общественные посиделки называются «Советом ветеранов» и они никакой решающей в чьей-то судьбе роли не играют, но тогда, в 70-х — 80-х годах без запинок пройти это партийное чистилище было делом непростым.
Моралевич, будучи политическим еретиком, тем не менее, старательно изучил действующие партийные документы, постарался вникнуть в суть «Устава КПСС» и несколько раз заставил себя прочесть «Моральный кодекс строителя коммунизма». В общем, как он сам говорил, «хоть ни черта и не понял, но был готов отвечать на все вопросы».
В актовом зале райкома было тихо и душно. «Как перед грозой…» — тревожно подумал Александр Юрьевич, переступая порог. Ворот, конечно, отечественной добротной нейлоновой сорочки устрашающе сжимал шею, надежно скрывая под этикеткой 1-й швейной фабрики предательский православный крестик, который Моралевичу пару лет назад в ресторане Дома журналистов подарил батюшка Андрей, с которым фельетонист активно выпивал по случаю какого-то престольного праздника. Хрустящий импортным лавсаном костюм братской ГДР весомо доказывал собравшимся, что перед ними действительный приверженец международного интернационала.
Секретарь райкома буднично зачитал стандартную характеристику: «не был, не привлекался, не имеет…»
На дежурные вопросы про до того абсолютно неведомый ему «демократический централизм» Моралевич, тем не менее, ответил бойко, т.к. именно об этой загадочной политической субстанции он весь предыдущий вечер тупо зубрил нужные ответы. — Еще бы не ответить, — неоднократно потом часто вспоминал он: — ведь смысл этой скрипучей фразы был лишь в том, что в обществе «меньшинство обязано неукоснительно подчиняться большинству». — «Так мы все почти именно так и живем, — недоумевал он, — только наоборот: большинство как раз неукоснительно подчиняется меньшинству. Попробуй-ка не подчинись!…» Оспорить эту мысль было невозможно.
Процедура подходила к завершению. Не усмотрев в мыслях собеседника политической близорукости и иной неблагонадежности, секретарь райкома был уже готов торжественно завершить допрос, как кто-то из дремавших участников кворума вдруг встрепенулся и назидательно произнес: «Тов. Моралевич, вы еще раз до отъезда внимательно почитайте литературу о братской Монголии, ее обычаях, нравах и правилах».
Моралевич, уже мысленно видевший себя у винного прилавка Шереметьевского валютного «дьюти фри», радостно гаркнул: «Да не волнуйтесь вы, товарищи, я про братскую Монголию все отлично знаю, ведь я там уже частенько до этого бывал…»
Наступила тишина, которую классики небезосновательно когда-то назвали «мёртвой». — Как это «частенько бывали?» — голосом, далеким от былой приятности, спросил секретарь райкома. — У вас ведь это первая в жизни загранкомандировка?»
— «Я, товарищи, ведь срочную службу на советско-монгольской границе отслужил — простодушно брякнул Моралевич. — А там, по сути, вообще никакой границы то и не было, степь, да степь. Так мы частенько к их пастухам в самоволку бегали, нашу водяру на их баранов меняли. Хотя и их самогонка «архи» тоже ничего себе напиток! Вот, помню однажды…»
На этой мизансцене идеологически невыдержанное собеседование было, конечно, прервано. В поездке Александру Юрьевичу неучтиво отказали. Сопровождавшему его заместителю главного редактора Алексею Ходанову влепили выговор. Скандал дошел и до ЦК КПСС. Досталось, конечно, и главному редактору…
— Лучше бы он взял на себя гибель «Титаника»! — частенько потом сокрушался пострадавший ни за что Ходанов, — все не так бы влетело!
Впрочем, историю быстро замяли: ведь Александр Моралевич был талантливым фельетонистом, о чем в ЦК тоже прекрасно знали и что для страны, конечно, было гораздо важнее, нежели судьба неведомых баранов…
P.S. «Нарочно не придумаешь…»
В этой рубрике «Крокодил» без всякой редактуры и политических вкраплений публиковал откровенно смешные, а то и глупые чьи-то фразы и мысли, услышанные или прочитанные журналистами «по случаю». Многие нелепости нам в редакцию присылали сами читатели. Например…
- «24-летний мастер спорта из Ростова-на-Дону своей меткой стрельбой поражал не только мишени, но и зрителей». — газета «Вечерняя Алма-Ата».
- «24-30 ноября в Барнауле пройдет Кубок РСФСР по фехтованию, в котором примут участие сильнейшие шахматисты республики». — газета «Ленинец» г. Уфа.
- «Я, Игнатов, на работу не выходил, потому что покрасил, увы, но, переборщив, 26 и 27 декабря отмывал их спиртом, в результате чего наглотался и проспал». — из объяснительной записки г. Горький.
- «…Потом я купил еще одну бутылочку и хотел выпить ее в лесу. Но так как леса поблизости не было, я выпил ее в телефонной будке…» — из объяснительной записки. Башкирская АССР.
- «Не успела доярка после выступления сойти с трибуны, как на нее тут же залез председатель». — газета «Заветы Ленина».
- «Рога — отличный подарок с курорта!» — рекламное объявление в сувенирном магазине. Ставропольский край.
В преддверии тревожно надвигающегося периода отпусков этим многообещающим прогнозом рассказ о буднях советского журнала «Крокодил» и закончим: ну ведь правда же смешно жили?
Поделиться
Поделиться