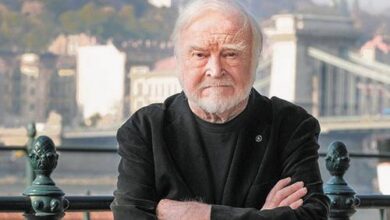Никому ничего не надо
28 августа исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Трифонова – большого советского писателя, автора «Дома на набережной». Из всех титанов русской прозы 1960–1970‑х Трифонов наиболее качественно забыт. Хотелось бы добавить, что и незаслуженно: даже с учётом всех цензурных недоговорённостей его проза многое может сказать о самих себе и миллениалам, и зумерам.
Со своим полным лицом и очками в роговой оправе Юрий Трифонов был больше похож на партийного функционера, чем на издававшегося миллионными тиражами советского писателя с покалеченной судьбой. Он происходил из семьи революционеров-большевиков, перебитых в годы Большого террора (папа Валентин Андреевич был председателем военной коллегии Верховного суда СССР). В мясорубке выжила только мать, но она вернулась из лагерей после войны, когда Трифонову было уже за 20 лет.
Начав карьеру чернорабочим на заводе, он сумел самостоятельно поступить в Литературный институт в Москве и к 25 годам получить Сталинскую премию 3-й степени за повесть «Студенты». Всю карьеру Трифонов писал только о том, что сам лично хорошо знал: знаменитый роман «Дом на набережной» вышел у него таким достоверным, потому что писатель сам жил в этом самом доме Иофана – высотке на Берсеневской набережной, где селилась советская номенклатура первого разлива, впоследствии чуть ли не поголовно выбитая репрессиями.
Писатель показал, что необязательно было быть бунтарём, чтобы сосуд за сосудом, артерию за артерией описать кровеносную систему советского общества, его корни и крону. «Дом на набережной» подкупал идиллической памятью детства. Заветная трифоновская мысль – в том, что чудовищное время породило всё-таки исключительных людей. Трифонов готов был оправдывать комиссаров во имя отца, которого обожал, во имя поколения, к которому принадлежал. Ведь это они, уцелевшие, создали великую науку и не менее великую литературу, потому что не стали равнодушными конформистами, несмотря ни на что.
В его прозе поражает несоответствие между материалом и уровнем изложения. Очень много незатейливых историй, производственных драм, бытописания с его пыхтящими коммунальными кухнями. Казалось бы, о банальных вещах трудно написать культовую прозу: для славы напрашивается что-то эпохальное про войну – как у Толстого или Гроссмана. И сам Трифонов ненавидел, когда его называли мастером «бытовой прозы», резко говорил в интервью, что бытовой бывает сифилис, а его городская проза не о быте, а об отсутствии Бытия. Во всех его «Городских повестях» история присутствует напрямую, а по контрасту с ней и становится ясна душная ничтожность мира, каким он стал. История же придаёт коротким трифоновским повестям их фирменный объём. Его метод – отступить вдруг в сторону, подложить фон.
Скончавшийся в возрасте 55 лет в 1981 году Трифонов задолго до распада СССР обозначил стержневой конфликт для постсоветской России. Он ощущал это ещё при Брежневе: людей убивает и корёжит отсутствие идеи, когда они начинают уничтожать друг друга, побуждаемые к этому лишь банальной жаждой покоя и сытости. Героями московских повестей, прославивших Трифонова, становятся рыхлые, вялые, нездоровые сыновья пламенных отцов. Они обзавелись невротичными жёнами и нарожали пустоватых, эгоистичных детишек. Они поглощены своими унылыми буднями, размышляют не о смене социального строя, а о деньгах, о семейных склоках, об обмене квартир.
Герои Трифонова страдают от собственных малодушных поступков, но симпатичны хотя бы тем, что не способны породить глобальный кошмар. Их семейные склоки, описанные Юрием Валентиновичем, выглядят вполне вегетариански на фоне разожжённого отцами-революционерами жуткого костра, который по сей день бросает свои кровавые отблески на нынешние поколения. И почему тогда кого-то удивляет, что у кровопийц вырастают дети-невротики? Как писатель Трифонов оказался выше старческого бурчания, что «молодёжь пошла не та». Он отразил ужас не только распада личных человеческих отношений, но и последствия распада отношений социальных и политических: «Всякий брак – не соединение двух людей, как думают, а соединение или сшибка двух кланов, двух миров». Но когда человеку ничего не нужно, кроме уютного быта и безопасности, он толком не участвует в формировании запроса от лица своего поколения, к которому чутко прислушивается любая власть. А когда нет запроса и готовности пойти за него на баррикады, нет и баланса между государством и обществом. Как следствие, из разнообразных щелей и углов вылезают новые кровопийцы, готовые разрушить старый мир ради своих амбиций, и навязывают свои правила.
Герои Трифонова перестают рационально реагировать на реальные вызовы своей эпохи, вместо этого подстраиваясь под капризы своих жён и недорослей. И всё, мягко говоря, упускают. А следующая эпоха уже не даёт своих Трифоновых, до сих пор оставаясь неописанной, пока литература мельчит, мигая «твиттером»* и «тик-током»**, или снобистски брюзжит, усложняя простое и умножая пустые сущности. Трифонов стал бытописателем советского среднего класса, которого, вроде бы и не касался политический выбор, но способного порождать моральные дилеммы, возникавшие, например, на почве обладания недвижимостью. Сегодняшний ипотечник даже не понял бы, о чём идёт речь.
* Социальная сеть запрещена на территории РФ.
** РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ.
Поделиться
Поделиться