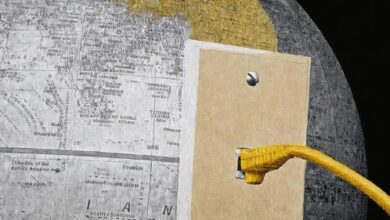Русский и западный взгляды на синицу в небе
В конце прошлого года в Лондоне в издательстве Hertfordshire Press вышла книга нашего постоянного автора Виктора Трифоновича СЛИПЕНЧУКА «Zinziver» на английском языке. Книга включает в себя роман «Зинзивер», а также повести и рассказы: «Перекрёсток», «Смеющийся пупсик», «Крылатый боевой конь», «Волшебство вещей», «День Победы» и «Маленькие превратности». «Зинзивер» – сложный, многогранный роман о взрослении молодого поэта Мити Слёзкина на фоне стремительно меняющегося мира России 1990‑х. Интересно было узнать, какой отклик он найдёт в душе западного читателя. Отзывы не заставили себя ждать. Предлагаем вашему вниманию два взгляда на роман: российской писательницы, поэтессы, литературного критика и публициста Анастасии Ермаковой и польского поэта и прозаика Адама Семенчика (Adam Siemienczyk).
Песня поверх границ
О романе Виктора Слипенчука «Зинзивер», вышедшем на английском языке
Казалось бы, русскую культуру на Западе отменили, перестали преподавать, даже упоминать, и всё, точка. Отменили не только современных писателей, но и наших классиков, создавших величайшие шедевры мировой литературы. Западная интеллигенция, понимает, конечно, всю абсурдность сложившейся ситуации, но молчит: иначе вылетишь с работы, останешься без средств к существованию. И вот в этой ситуации бойкота случается настоящее чудо: в конце 2024 года в английском издательстве Hertfordshire Press (Лондон) выходит роман крупного русского писателя Виктора Слипенчука – «Зинзивер» (Zinziver), а также повести и рассказы: «Перекрёсток», «Смеющийся пупсик», «Крылатый боевой конь», «Волшебство вещей», «День Победы» и «Маленькие превратности».
Кроме того, автор был удостоен награды этого издательства – «за выдающиеся достижения в области формирования и продвижения литературного наследия стран Евразии в международном пространстве». Роман уже встречает своего читателя в книжных магазинах Австралии, Великобритании, Германии, США, Швейцарии, Швеции и других читающих на английском языке государствах. Это говорит о том, что интерес к российской культуре и истории у подлинных ценителей не исчезает, несмотря ни на что.
Переводчик книги – Антон Коваленко (Канада), редакторы англоязычной адаптации – Франческа Мефам и Лаура Гамильтон (Великобритания). Заметим, что ранее роман «Зинзивер» выходил на французском и китайском языках. Это ли не доказательство яркого существования современной русской словесности на мировой арене? Это ли не символ развития и укрепления международных гуманитарных ценностей и культурных связей поверх всяких границ?
Стоит заметить, что Виктор Слипенчук – автор более 30 книг, включающих в себя стихи, поэмы, рассказы, повести, романы, очерки, публицистические статьи, многие из которых неоднократно переиздавались, а также были переведены и изданы за рубежом, в том числе во Вьетнаме, Китае, Монголии, Сербии, Украине, Франции и Японии. А теперь вот и в Великобритании.
Вдвойне символично в этой ситуации звучит название романа. «Зинзивер» – большая синица мужского пола, которая начинает петь сразу после зимней стужи, со второй половины марта. Это и символ любви главного героя – страстного романтика Мити Слёзкина к своей несравненной жене Розочке, и в то же время, если смотреть на роман в контексте современной геополитики, символ духовного света, преодоления подлинным искусством всех хлипких, возведённых ограниченными идиотами барьеров; а может быть, он предвещает и близкую оттепель в отношениях с нынешними «недружественными» странами…
Чем же интересен Виктор Слипенчук читателям в других странах? В основе этого интереса – уникальное мироощущение автора, в котором содержится национальный код русского человека: вера в добро и справедливость, поразительная духовная стойкость, способность к прощению и вечное богоискательство.
Разве вот такие размышления не волнуют думающих и чувствующих людей во всём мире?.. «Звери, птицы, насекомые, даже деревья – всё, всё живое сообщает о себе: смотри, смотри, для чего я. Не сознавая себя, ведают, для чего они. Почему же он, человек, не ведает? Да потому, наверное, что только глазами на всё смотрел, а сердце его молчало. А тут надо сердцем видеть, сердцем. Тогда-то и откроется во всём высший смысл, глубинная тесная связь всего, что было, есть, будет. А может, нет этой связи, и всё вокруг само по себе, как рассыпанные детские кубики? И человек лишь мнит её в страхе перед собственным ничтожеством?»
«Зинзивер» – лирико-философский роман высокого напряжения, написанный прекрасным образным русским языком.
Вот одно из детских воспоминаний героя. Разве не чувствовали мы в своём счастливом детстве нечто подобное, да только не сумели так тонко и лирично описать? «Я проснулся в предчувствии большой радости. Через огромные проёмы окон солнце заглядывало в зал и в своих сверкающих лучах прогуливалось под высокими колоннами. Всюду – всюду его было так много, что мне показалось, что мы с мамой находимся в сказочном дворце. Я нисколько не удивился, что мы в нём одни, что солнце наклонилось над мамой и, не касаясь её лица, выпустило ей на ладонь своего солнечного зайчика. Я потянулся к нему, мамина рука ласково отозвалась, и зайчик перескочил ей на локоть. Мне стало весело, я догадался, что мама, хотя и спит и глаза у неё закрыты, она своей рукой помнит обо мне и даже уговаривает меня ещё немножко поспать. Но я не послушался».
Роман Слипенчука невероятно живой, динамичный, весь искрит авторской иронией и самоиронией, и это придаёт тексту особые обаяние и эмоциональную манкость. Графомания – бич последних десятилетий, особенно сегодня, когда каждый может быстро издать книгу и заявить о себе как о новоявленном писателе. Думается, данная проблема ощутима не только в России, но и во всём мире, где объявить себя писателем стало легче лёгкого. «Зинзивер» в том числе и об этом. Автор элегантно и задорно «разоблачает» мнимых литераторов устами ведущего литобъединения Мити Слёзкина, зарабатывающего на графоманах: «He раз и не два мысленно прокручивал свою тронную речь, в которой, после того как отдам деньги, намеревался сказать: «А теперь, мнимые классики, как то: Пушкины, Гоголи, Толстые, Некрасовы и прочая, прочая… отпускаю вас на все четыре стороны. Идите с миром к своим детям и внукам, но упаси вас Боже когда-либо писать – руки поотрываю!»
Виктор Слипенчук – бесспорный мастер пейзажа и создания подвижного и лаконичного образа. При этом текст не перегружен метафорами, они всегда употребляются в меру, с филигранным мастерством и художественной точностью: «В Парке пионеров умышленно свернул с тропки и остановился под берёзой. Лёгкий чистый морозец, низкое белое солнце, искрящаяся пыльца – и всего так много-много, что даже голова закружилась от солнечно-снежного изобилия».
Кроме того, «Зинзивер» имеет плотное философское наполнение, которое, несомненно, будет интересно каждому вдумчивому читателю вне зависимости от стадии осмысления мира, на которой он находится. Предчувствия и предощущения, тончайшие грани интуиции, сердечные озарения органично соседствуют с логическими, порой парадоксальными умозаключениями: «…Я сделал в институте три важнейших открытия, определивших моё сегодняшнее понимание не только всей мировой литературы и искусства, но и понимание творческой личности, создавшей тот или иной шедевр.
В детстве и юности мы чувствуем себя вечными, как боги, – бессмертными. Мы торопим время, но «…медленно мелет мельница богов, некуда спешить бессмертным». А мы спешим поскорее вырасти, поскорее окончить школу, в сущности, спешим поскорее стать большими. Отсюда и непоколебимое убеждение, что мир с каждым прожитым днём движется от худшего к лучшему. Вот он, первый постулат: детству и юности присуще мыслить, что мир движется по спирали, как бы по винтовой лестнице, от низшей ступени к высшей.
Потом наступает молодость, и вслед за нею или с нею – зрелость. Кажется, всё доступно и всё возможно, не хватает только времени, уж слишком быстро оно бежит, порою так, что и не угонишься. Но всё же там, где за ним поспеваешь, вдруг бросается в глаза, что ты в некотором смысле похож на белку в колесе. Как бы резво ни бежал – бежишь по кругу, да и весь мир перед тобой похож более всего на замкнутый круг. Поневоле вспомнишь Екклезиаста: «Идёт ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своём, и возвращается ветер на круги свои». Так и ты в своей круговерти. А отсюда и убеждение: мир движется не по спирали, а по кругу – вот вам и второй постулат. «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».
Но и у зрелости есть предел. И хотя «…не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием», вдруг начинаешь ощущать, что ты не вечен, что ты не поспеваешь за этим сумасшедшим временем. А ведь кажется, ещё вчера ты торопил время, спешил поскорее стать большим. Да, вчера, ещё вчера солнечный день был полон птиц, а звёзды были в ночи крупными, как яблоки! Да-да, ещё вчера мир сиял от множества причудливых красок, а сегодня он сер и уныл. Куда, куда всё подевалось?! И уже твой сосед-пенсионер сердито стучит палкой и топает ногами на отвратительную молодёжь, у которой нет никакого уважения к старшим, а стало быть, нет ни стыда, ни совести. В конце концов мы приходим к печальному выводу: всё вчера было лучше, чем сегодня, – и молодёжь, и мы сами. И леса, и реки были чище – вот в чём дело! А отсюда и окрепшее убеждение: мир действительно движется по спирали, как бы по винтовой лестнице, но не от низшей ступени к высшей, как мы думали в детстве и юности, а, наоборот, от высшей к низшей. От лучшего к худшему движется мир. Мы, ангелами рождённые, всей своей жизнью спускаемся с небес на землю и даже более того – в землю. Вот вам и последнее моё открытие, так называемый третий постулат: мир движется к своему концу.
Три постулата, три открытия, три полочки, на которых разместились для меня вся художественная литература, творения искусства, трактаты философов и богословов, да что там – весь мир всех времён и народов».
Все эти цитаты здесь крайне необходимы – для понимания плотности произведения, его многослойности и, если угодно, надмирности. Но интересен будет зарубежному читателю и исторический контекст романа: девяностые в России – это время слома эпох, время выживания в прямом смысле слова, время, побывав в котором, человек уже не мог остаться прежним. Таков путь главного героя: от полного безденежья и кромешной нищеты к попытке предпринимательства, к попытке заново обрести человеческое достоинство, растоптанное собственной страной…
Но в романе абсолютно нет никакого морализаторства или дурацких советов о том, что надо было жить так-то или так-то. В романе вообще нет никаких постулатов и мёртвых конструкций. Всё повествование ведётся исключительно от сердца, при этом не сентиментально, а ярко и иронично. Правда, в иронии этой гораздо больше горечи, чем насмешки. Герой – Митя Слёзкин растерян и подавлен и вместе с тем воодушевлён своим даром, своим высоким предназначением и поэтапным осознанием своего пути. Он не супергерой, но очень талантливый человек со своими слабостями и горестями, надеждами и разочарованиями. Именно такой герой и интересен читателю: ему веришь, ему сочувствуешь, его любишь.
Роман в целом трагичен, но весь словно светится изнутри от сердечного света постижения мира: в этом находишь вслед за главным героем и оправдание, и утешение. И потому «Зинзивер» – знаковый отечественный роман, созданный на национальной почве, способный открыть новые смыслы читателям всего мира.
Анастасия ЕРМАКОВА

Поиск утешения в литературе и последствия утраты фундаментальных ценностей в Zinziver
Сравнительный анализ с «Скотным двором» Джорджа Оруэлла
Введение: поиск утешения читателем
Литература издавна служила убежищем, где читатели ищут утешение, надежду и катарсис. Они стремятся к повествованиям, в которых главный герой сталкивается с невзгодами, но в конечном итоге побеждает. Через его триумф читатели также ощущают символическое искупление и трансформацию. Однако Zinziver предлагает совершенно иной литературный опыт – он показывает последствия утраты фундаментальных ценностей на нескольких уровнях: личностном, художественном и социальном. Вместо воодушевляющего финала роман заставляет читателей столкнуться с распадом человеческих связей, деградацией литературы и разрушением социальных структур.
Этот тематический анализ сближает Zinziver с «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, ещё одним произведением, использующим аллегорию для изображения разложения ценностей, коррупции идеалов и последующего разочарования. В то время как басня Оруэлла критикует политическое угнетение через призму фермерской антиутопии, Zinziver вскрывает моральный и экзистенциальный кризис постсоветского интеллектуала, оказавшегося в обществе, потерявшем свои ориентиры. Оба произведения представляют собой предостережение, призывающее читателей осознать опасность идеологического распада и хрупкость культурных и этических принципов.
Личный уровень: утрата любви и человеческих связей
На самом интимном уровне Zinziver показывает главного героя, который переживает разрушение любви, доверия и значимых отношений. В отличие от традиционной литературы, часто утверждающей искупительную силу любви, этот роман демонстрирует, как его эмоциональный мир рушится из-за цинизма, отчуждения и неудовлетворённых желаний.
Одним из самых ярких примеров этого кризиса является его связь с Розочкой. То, что изначально кажется глубокими эмоциональными узами, со временем оказывается хрупким, разобщённым и в конечном итоге нежизнеспособным: «Я рассказал Розочке о нашей трёхкомнатной квартире впервые после нашего визита на кладбище. Меня глубоко удручало, что она не видит для себя будущего за пределами могилы отца, и я хотел её отвлечь».
Здесь любовь не является источником обновления, а скорее кратковременным отвлечением от экзистенциального отчаяния. Подобным образом «Скотный двор» Оруэлла показывает распад товарищеских отношений среди животных. В начале романа они разделяют видение коллективной солидарности, но с ростом власти их единство рушится: «Все животные равны, но некоторые животные равнее других».
Оба произведения описывают мир, где изначальная чистота отношений – будь то романтических или коллективных – постепенно разрушается системным распадом и разочарованием.
Деградация литературы и искусства
Так же как Zinziver фиксирует разрушение личной целостности, он так же критикует упадок литературы и искусства как средств поиска истины и смысла. Главный герой сталкивается с литературным миром, который становится самодовольным, бюрократическим и лишённым настоящей творческой страсти. Вместо пространства интеллектуального и эмоционального поиска литература в Zinziver превращается в пустую институцию, где писатели заботятся о самосохранении, а не о правде: «Литература была полем битвы, на котором либо погибаешь без славы, либо проявляешь доблесть и получаешь посмертное признание».
Это разочарование перекликается с изображением пропаганды в «Скотном дворе». Если Zinziver критикует застой литературы, то роман Оруэлла показывает, как язык и риторика могут быть использованы для служения власти, а не истине. Свинья Визгун, служащая пропагандистом Наполеона, искажает реальность с помощью лживых лозунгов: «Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – сила».
Оба романа предупреждают о мире, в котором слова теряют свой вес, литература перестаёт вдохновлять, а интеллектуальная жизнь вырождается в инструмент контроля или самообмана.
Разрушение социальных структур
На самом широком уровне Zinziver критикует распад общественных институтов и моральных основ, на которых они когда-то строились. Главный герой наблюдает мир, в котором этические нормы заменяются оппортунизмом, а социальные структуры больше не служат общему благу, а лишь интересам отдельных групп.
Таможенники, бюрократы и корыстные интеллектуалы, с которыми он сталкивается, являются симптомами мира, отказавшегося от коллективных идеалов в пользу циничного прагматизма. Прибытие главного героя в аэропорт символизирует эту суровую реальность: «Таможенник (это было не просто необычно, но и возмутительно) перевернул мои вещи вверх дном, а затем пробормотал, что разрешено провозить только две бутылки алкоголя».
Этот на первый взгляд незначительный эпизод отражает более широкую социальную дисфункцию – мир, в котором правила существуют не для поддержания справедливости, а для демонстрации произвольной власти. Аналогично в «Скотном дворе» Оруэлл показывает, как революционные идеалы могут превратиться в угнетение. Свиньи, некогда выступавшие за равенство, становятся неотличимыми от тиранов, которых они свергли: «Существа снаружи смотрели то на свиней, то на людей, то на людей, то на свиней, и уже невозможно было сказать, кто есть кто».
И Оруэлл, и автор Zinziver показывают, как системы, обещавшие справедливость, превращаются в механизмы эксплуатации, а высшие устремления общества оборачиваются его величайшими поражениями.
Роль читателя: поиск смысла в мире без искупления
В отличие от традиционных повествований, дающих читателю ощущение разрешения или искупления, Zinziver не предлагает такого утешения. Вместо этого он заставляет читателя столкнуться с последствиями утраты ценностей. Аналогичным образом «Скотный двор» Оруэлла отказывает читателю в счастливом финале, вынуждая его осознать цикличность коррупции.
Это поднимает вопрос: если литература не утешает нас, имеет ли она смысл? Ответ, парадоксально, утвердительный. Zinziver и «Скотный двор» служат предупреждениями, напоминающими нам о том, что происходит, когда личная, художественная и общественная целостность рушится. Через их мрачность они предлагают своеобразное просветление – неудобное, но необходимое столкновение с реальностью.
«Роман – это как зеркало: ты можешь увидеть себя в нём, но если будешь смотреть слишком долго, забудешь, кто ты».
В обоих романах читатель не получает триумфального героя или победного финала. Вместо этого он остаётся перед вызовом: осознать хрупкость ценностей и противостоять их разрушению в своей жизни.
Заключение: сила литературы за пределами утешения
Традиционная литература часто заверяет своих читателей, предлагая им героев, которые преодолевают препятствия и утверждают незыблемость человеческих ценностей. Zinziver и «Скотный двор» лишают читателя этого утешения, разоблачая жестокие последствия утраты фундаментальных принципов в личных отношениях, искусстве и социальных структурах.
Эти произведения показывают, что литература необязательно должна давать надежду, чтобы быть преобразующей. Иногда её самая глубокая функция – это столкновение читателя с реальностью, от которой он предпочёл бы отвернуться.
Адам СЕМЕНЧИК (Adam Siemienczyk), польский поэт, прозаик и художник, член независимого экспертного совета Евразийской творческой гильдии (Eurasian Creative Guild)
Официальный сайт писателя.
Поделиться
Поделиться